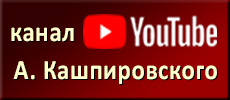Валерия Врублевская, писательница, драматург.
— Операция должна была начаться в час ночи по тбилисскому времени, но уже в восемь вечера мы с Марком Рывкиным зашли в палату, где лежали Ольга и Леся. Оказывается, мы были давно знакомы. Оля Игнатова работала в Центральном универмаге, куда я часто приходила за покупками, а с Лесей Юршовой мы общались в стенах Киевского университета: она на кафедре истории, а я в аспирантуре на кафедре этики и эстетики.
Мы искренне обрадовались друг другу. И Оля, и Леся были аккуратно причесаны, с макияжем. Еще бы, целый день к ним заходили гости - медперсонал, больные. Некоторые старались даже ущипнуть — хотели узнать, не обезболили ли их еще до операции, но сквозь смех явственно чувствовалось возбуждение, похожее на страх.
«Да как тут не бояться, — просто сказала Леся, — если я уже пережила четыре операции, две клинические смерти под наркозом, сепсис, два года больниц. Обычные методы обезболивания для меня категорически исключены, так что причина для волнения есть. Я бесконечно верю Анатолию Михайловичу и все же переживаю... Считаю часы до операции...».
В палату внесли телекамеры. Марк Александрович должен был передавать в эфир первое интервью. Я вышла, поднялась этажом выше и в растерянности остановилась.
Да, такого я не ожидала. На лестничной площадке, по всей длине многометрового коридора, почти до самой операционной, стояли люди — врачи, студенты, медперсонал. Широкой рекламы предстоящему не было, и такой интерес меня глубоко тронул. Вместе с тем я впервые ощутила внутренний толчок настоящего волнения. Стало тоскливо. Господи, чем это все закончится?!
Профессор Иоселиани собирает всех в своем кабинете. Обсуждаются подробности операции, и мое непросвещенное ухо уловило только одно: ожидается, что у Оли операция будет легче, чем у Леси.
...Телеканал уже включен, с экрана на нас смотрел Кашпировский и просил показать ему операционное поле. Оператор манипулировал камерой, то приближая, то удаляя ее от операционного стола. Я посмотрела на экран — глаза Анатолия Михайловича напряженно пытались рассмотреть что-то с расстояния в две тысячи километров. Потом он обратился к кому-то в Киеве: «Неужели так трудно поставить свет?».
Отлегло — значит, это просто телевизионные неурядицы. Между тем, установка камер и телевизоров затягивалась. Сперва предполагалось вести операции одновременно. Ольгу должен был оперировать опытный хирург Зураб Мегрелишвили, а Лесю - профессор Иоселиани. У каждой пациентки в изголовье устанавливался телевизор.
Операционная маленькая, места в обрез. Вспомнились громоздкие наркозные аппараты, которые убрали за дверь, — хоть бы они не понадобились!
В операционную привезли Олю и Лесю. «Включите музыку», - дал команду Анатолий Михайлович, и с первых звуков воцарилась какая-то странная атмосфера — операционные столы, блестящие инструменты, люди в халатах, нежная, тихая мелодия...
Он обратился к Лесе, наверное, предполагал начать с нее.
«Леся, ты меня видишь?». — «Нет». — «Почему? Экран рядом с тобой». — «Не вижу, на экране зайчики...». — «Поставьте ей хорошо телевизор. А теперь?». — «Теперь вижу». — «Закрой глаза, Леся!». — «Не закрываются». — «Смотри мне в глаза!..».
Позднее, после операции, Леся скажет мне: «Я увидела его глаза, а в них — страшную тревогу». Кашпировский же потом утверждал, что именно в эти секунды шансы на успех упали наполовину: «Я хотел начать с Леси, но она не поддавалась, ускользала... Не получилось. Тут я и по чувствовал легкий холодок в груди...».
Но он не дал этому холодку окрепнуть и перешел к Оле. «Оля, закрой глаза!».
Оля напряжена до предела, на лице какая-то судорожная улыбка: «Не закрываются». И я вижу, как под простыней дрожат ее ноги.
В это время Марк Александрович спросил: «Можно начинать?». — «Нет, — резко бросил Анатолий Михайлович, — я скажу, когда». И снова к Оле: «Глаза закрываются!».
Оля не закрывает и жалуется: «Ноги дрожат».
Мы по-прежнему ничего не понимаем, но ощущение надвигающейся катастрофы легкой тенью скользит по лицам.
И тогда он атаковал Олю яростно, резко, стукнув кулаком по столу: «Не дрожат! Закрываются! Все!».
Операционная в оцепенении, но голос Кашпировского становится опять спокойно-распоряжающимся. «Приступайте к операции!».
Скальпель в руках хирурга дрожит — непривычно. «Дайте другой скальпель, этот тупой». Дают другой. Он делает аккуратный надрез.
Становится жарко. Оля опять открыла глаза, комментируя свои ощущения. Боится остаться без глаз Кашпировского. Чуть он глянет в сторону или отвернет голову к коллеге, академику Н.Бондарю, который сидит рядом, она требует не отрываться от нее ни на секунду. Боли не чувствует. Люди в операционной вдруг зашевелились, ожили, музыка стала слышнее.
Там, в Киеве, Кашпировскому принесли кофе. Только я подумала, что можно расслабиться, как из переговоров хирургов услышала: у Оли грыжа, приросшая к другим тканям, ее надо иссекать. Ольга повернула голову к экрану и стала жаловаться: « Что они там тянут? Неприятно!». — «А ты как хотела ? — рассердился Кашпировский. — Тактильную чувствительность с тебя сам Господь Бог не снимет. Кому приятно, когда у него копаются в кишках? Сейчас будет хорошо... Представь: ты на море... Солнышко, легкий ветерок...».
Я слежу за Олиным лицом, одно выражение сменяется другим. Такое впечатление, что она подставляет лицо солнцу, кому-то усмехается и вдруг... «Чайки, чайки, — шепчет она, — чайки живот клюют...». — «Ну что ты, — успокаивает ее Анатолий Михайлович, — мы их сейчас отгоним».
В это время врач говорит: «У Оли упало давление, может быть, надо сделать укол?». — «Не надо. Оля, слушай меня внимательно: ты взваливаешь на плечи тяжелый мешок и поднимаешься по лестнице... Сколько?.. Какое давление, Тенгиз?». — «Сто сорок на девяносто».
Мы поражены. Минуту назад было почти нолевое. «Сбрасывай мешок, — приказывает Кашпировский Оле, — теперь тебе легко, легко...».
Я прислоняюсь к стене. За многие месяцы возле Анатолия Михайловича я уже многое видела, и тем не менее все, что происходит здесь, в операционной, похоже на какой-то сон. Утрачиваешь чувство времени, ощущения притупляются, усталости тоже нет. Не знаю, как кто, но я чувствую себя в сфере чужой воли, мне невыносимо...
Оглядывая операционную, пытаюсь мысленно подняться над ней, взглянуть на происходящее как бы сверху и не могу. Я хочу вырваться за круг происходящего, хочу разумом его оценить... Ведь это же какое-то фантастическое представление, в которое втянуты все присутствующие. Да, это спектакль, да, у каждого из нас своя роль, но посмотрите: там, на столе, лежит женщина, которая боится боли, — это нормально! Все нормально, только брюшная полость у нее вскрыта. Ей отсекают грыжу, а она грезит о море, и только наглые чайки напоминают, что она на операционном столе!
Дьяволиада! Я перестаю что-либо понимать, в голове какой-то туман, все поплыло. Не знаю, сколько секунд это было.
«Валерия Васильевна, что с вами? Вам плохо?» — тормошит меня тбилисский товарищ. Оказывается, я сползла по стене на пол да так и осталась сидеть на корточках.
...Первая операция окончена. Никто из нас не задумывался, каким напряжением духа, какой ценой создавалась эта ночь чудес, но это была победа!
Я подошла к Ольге: она спала — без единого обезболивающего или противовоспалительного укола. Эксперимент был чистым и честным. Неужели все нужные ей лекарства вырабатывал и будет вырабатывать ее собственный организм?! А может, издревле человек носил в себе целую аптеку, пока она не атрофировалась благодаря цивилизации и привычке к таблеткам? Может, настало время ее поискать, может, еще найдем тот инструмент, при помощи которого заставим ее работать? Ну-ну! Ночь фантастики вселяет оптимизм.
А между тем все потихоньку переместились в другой конец операционной, где лежала Леся.
Первая попытка Анатолия Михайловича заставить работать ее организм в заданном направлении не удалась, и тогда он провел своеобразное психологическое тестирование. «Леся, - спросил у нее очень спокойно, — будем оперироваться или слезаешь со стола?». Пауза, потом нерешительное: «А как вы думаете?». — «Я думаю, надо оперироваться».
И тут они попали в одну колею. Последовала решительная установка на обезболивание и... команда начинать операцию. Профессор Иоселиани скальпелем пробует Лесин живот на чувствительность, но Кашпировский командует:. «Не надо пробовать, работайте!».
Профессор начал. Казалось, разрез будет бесконечным - сорок сантиметров! Леся смеется: «А я думала, что будет больно».
Мы с облегчением вздохнули. Разве кто-то мог предположить, что вторая операция будет длиться почти три часа?
Я подошла к Лесе, взяла ее за руку. Она повернула ко мне лицо и вся засветилась от радости. «Пить хочется».
Взяв марлевую салфетку, я намочила ее в воде и приложила Лесе к губам. Вот так, периодически меняя салфетку, я простояла и проговорила с ней почти три часа.
Я первый раз была в операционной, но странно: меня не пугали вид крови, зияющая огромная рана, сам смысл происходящего. Я уже давно не была ни свидетелем, ни наблюдателем — с того момента, когда у Оли «чайки клевали живот», я стала соучастником происходящего. Мой статус изменился, магия происходящего, сочувствие, сострадание не дали мне возможности играть роль.
Внезапно лицо Леси исказилось. «Больно?» — спросила я и позвала Анатолия Михайловича, который в это время разговаривал на экране с коллегой. «Что, Леся?» — спросил ее Кашпировский. «Живот давят...». — «Уже половина операции осталась». — «Позвоните моему сыну там, в Киеве...».
Анатолий Михайлович отдает распоряжение, кто-то идет звонить.
«Неприятно... тяжело... тянут», —это снова Леся.
В операционной невыносимо жарко, и я иду за свежей салфеткой. Леся благодарно сжимает мне руку.
Операция затягивается, телевизионное время на нуле. Кто-то связывается с Москвой. Работники московского телевидения заверяют, что готовы работать бесплатно, пока не закончится операция. Мы с облегчением вздыхаем, преисполненные благодарности к москвичам.
Леся опять начинает метаться. «Смотри мне в глаза!» - приказывает Кашпировский. Леся смотрит и обмякает. Потом вдруг поднимает руки и начинает водить ими по воздуху, как в танце.
«Без движения», - останавливает ее Кашпировский.
«Леся, - зову я ее, - ты где?». - «На балу, - шепчет она с радостной улыбкой. — Бал Наташи Ростовой... Я в восторге! Что-то необыкновенное, я в главной роли — все на меня смотрят! И Анатолий Михайлович, а глаза у него добрые, ласковые, необыкновенные. Я так хочу петь. Анатолий Михайлович, можно мне петь?». - «Пой, Леся, пой!».
И Леся запела. Лежа на операционном столе, когда над разрезом на ее животе колдовали человек пять, она, держась за мою руку, пела «Тбилисо», «Подмосковные вечера», «Тополя»... Ей подпевали.
То, что происходило в операционной, разрушало вековые представления о боли и психологическом устройстве человека. Тайна тянулась из Киева до Тбилиси и была такой же тонкой и дрожащей, как нить паутинки, готовая разорваться в любую секунду. Да, это была фантастическая ночь!
Думаю, что никто из нас не вышел из операционной таким же, каким в нее вошел. Мы все пережили своеобразный стресс, ибо увидели то, о чем не подозревали, ибо поднялись на вершину человеческого духа и воли. Недаром, когда операция закончилась, все как один повернулись к экрану и аплодисментами приветствовали Кашпировского.
«Это чудо! Это просто чудо!» — повторял профессор Иоселиани.
. ..Мы уже не смогли уснуть до утра, уехали в город. Впрочем, как узнали потом, не спал весь Тбилиси..