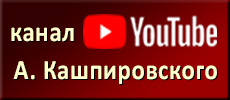Переговоры
Мы стали подниматься по лестнице наверх. Все ступеньки были в битом стекле и больших пятнах крови. Асламбек подвёл нас к комнате на втором этаже, в прошлом, по-видимому, ординаторской, открыл дверь.
На полу сидели 7-8 человек в защитной военной форме. Тут же находилось несколько перебинтованных женщин.
Увидев нас, один из сидящих, с панамой на голове, поднялся. Минуя всех, подошёл ко мне, слегка улыбнувшись, подал руку. Это был Шамиль.
«Так это ты, Шамиль?» , - на всякий случай спросил я.
Он ничего не ответил и жестом пригласил всех присесть на диван.
Я умостился крайним справа. Сам Басаев уселся на маленький стульчик напротив нас. Остальные, повинуясь его знаку, вышли из комнаты. Среднего роста, спокойный, неторопливый в движениях, с бородой, как и все остальные чеченцы, Басаев вовсе не производил никакого страшного впечатления.
Подняв стоящую рядом со стульчиком большую бутылку «Фанты», стал медленно откручивать пробку. Все молчали, ожидая. Открутив, вытер рукавом горлышко. Пить не стал... Протянув руку с бутылкой вперёд и вскинув брови, придав лицу вопросительное выражение, медленным приглашающим жестом обвёл всех нас, начав с меня и закончив бывшим председателем Верховного суда Чечни, который сидел крайним с другой стороны дивана.
В ответ все сдержанно промолчали.
Тогда, сделав маленький глоток, Басаев снова стал неторопливо закручивать пробку. Закончив, спокойно произнёс:
«Я вас слушаю».
В ответ сразу раздалось несколько громких голосов. Делегаты почему-то быстро перешли в разговоре с Басаевым на высокие тона. Перебивая друг друга, переходили с русского языка на чеченский и снова на русский. Такой вариант переговоров я почему-то и предвидел, поэтому поначалу решил воздержаться от участия в них. Но быть в стороне мне пришлось не долго. Видя, что переговоры заходят в тупик и, опасаясь, что они ни к чему хорошему не приведут, я прервал разговор и задал Басаеву вопрос:
«Ты рад, что я к тебе пришёл?» .
«Да» , - ответил он.
«Могу ли в таком случае тебя о чём-то попросить?».
«Да, конечно».
«Пять беременных дашь?»
Вместо ответа Басаев повернулся направо в сторону двери, и что-то громко сказал по-чеченски. Из-за дверей послышалась короткая ответная фраза на том же чеченском языке.
После этого, обратившись ко мне, произнёс:
«Пять беременных сейчас будут отпущены домой» .
Переговоры продолжились, а я мысленно начал ругать себя, почему не попросил десять беременных.
«Боялся перегнуть палку, вот и поосторожничал» – оправдывался я перед самим собой.
Накал в разговоре снова стал нарастать. Из всех собеседников только один Басаев не терял выдержки и говорил очень спокойно и взвешенно. Видя, что переговорный процесс обостряется и может достичь нежелательных взаимных реакций, я снова вмешался и предложил пройтись по больнице. Это предложение сразу было принято обеими сторонами.
Среди заложников
«Нагибайтесь, когда будете идти. Вы же слышите – стреляют» - предупредил нас Басаев, провожая к дверям в коридор.
«Ведь договорились, чтобы не стрелять» - с досадой и недовольством продолжил он. Да, действительно, довольно часто слышались одиночные выстрелы. Но никто из нас не обратил на его совет внимания, не пригнулся, даже не думая о том, что шальная пуля может влететь через окно. Дальше Басаев с нами не пошёл, оставшись на прежнем месте.
Едва мы вошли в длинный коридор, как глазам открылась страшная и трогательная картина. Сотни людей стояли вдоль стен по всей длине коридора. Многие из них были в бинтах. В палатах тоже было полно перевязанных - взрослых и детей. Некоторые, особенно дети, лежали под кроватями, испуганно оттуда выглядывая.
Увидев меня, люди засуетились, заволновались. Перебивая друг друга, стали жаловаться, плакать, просить, взывать. А, главное, возмущаться бездействием властей по поводу их участи. Страдая от большой скученности, тяжёлого воздуха, нехватки воды и света, испытывая страх перед будущим, они уже никому и ничему не верили, ни на что не надеялись. Все уверенно говорили, что обречены на гибель.
В самом конце коридора в большой комнате, видно, операционной, в большой луже воды, забуревшей от крови, лицом вниз лежало несколько мёртвых. От них уже струился специфический запах.
Возвращаясь обратно в ординаторскую среди измученных, уставших, больных и раненых людей, затравленно и беспомощно стоящих вдоль коридора несколькими длинными шеренгами, я всё больше осознавал, какая жуткая развязка ожидает их всех в ближайшие дни. А, может быть, даже и часы.
Характерно, что с самого первого мгновения, едва очутившись в этом предбаннике смерти и представ перед взорами сотен обречённых людей, я стал чувствовать себя очень неловко и тягостно. Словно был перед ними в чём-то виноват.
В их глазах, полных отчаяния, надежды, страха и мольбы, было нечто такое, что как-то не сразу определялось, но заставляло отводить взгляд в сторону. Особенно в момент нашего возвращения обратно. Ведь вначале мы принесли надежду. А уходя, оставляли их с чувством ужаса и безысходности. Что думали они о нас, которые совершив эту своеобразную экскурсию, опустив глаза, покидали их, так ничего и не изменив. Не знаю, какие эмоции владели другими членами делегации, но у меня было гнетущее чувство вины.
Продвигаясь к выходу, машинально и невпопад кому-то что-то отвечая, я продолжал находиться во власти мучавших меня чувств.
«Ещё один шаг – и мы будем за пределами этого ада», - думал я.
«А они? А они вынуждены будут остаться здесь. И ни один из них не сможет выйти отсюда».
Так вот почему, помимо всех остальных чувств, на их лицах угадывалось выражение упрёка, которое вначале так смутно улавливалось мною. Упрёка за несправедливое неравенство наших судеб.
Поражало, что в смертельно опасной ситуации, они были настолько нравственны, что не говорили об этом вслух.
Пронзённый этим открытием, я уже не видел иного выхода, кроме одного - остаться с ними, одновременно инстинктом чувствуя, что это есть единственный шанс спасти их.
Откровенно говоря, готовность так поступить не была сиюминутной. Она только лишь выразила в данный момент выработанное с детства моё моральное кредо – идти в случае необходимости на самопожертвование. Выход из страшной ситуации меня самого поразил своей простотой, хотя и скрывал в себе большой риск и опасность.
Охваченный этой идей, я отрешился от всего. Продолжая выслушивать людей, я их уже почти их не слышал, никого не успокаивал, не обнадёживал, так как был уверен в главном – в их освобождении.
Закончив обход, делегация стала собираться в обратный путь, так ни о чём не договорившись с Басаевым.
Заметив, что я не собираюсь уходить, кто-то из нашей делегации спросил меня, почему не ухожу со всеми.
«Потому что остаюсь» - ответил я. «Передайте моё решение в штаб и скажите, что им теперь придётся стрелять в депутата Госдумы.
А, заодно, и в Кашпировского».
Никто из моих спутников мне не возразил. Мы без слов попрощались и больше не виделись. Только потом, спустя почти год, несколько раз встречались в Москве с Хумитом, одним из них.
Наедине с Басаевым и его боевиками
Вместе с Басаевым мы снова вернулись в ординаторскую. Туда же пришло ещё несколько боевиков. Вначале говорили на общие темы, практически ни о чём. Так тянулось довольно долго. В ординаторской повсюду валялось много оружия. Оно было очень легко доступно. Первоначальное восприятие этой доступности очевидно проявилось в моём взгляде, который сразу был перехвачен, едва я только посмотрел на лежащие в полушаге от меня автоматы. Наверное, у каждого мужчины на моём месте, мелькали бы шальные мысли... Боевики, словно угадывая их, сдержанно наблюдали за каждым моим движением.
«Всё же не доверяют» – думал я...
Находясь рядом с Шамилем Басаевым, я принял тактику ничего ему не навязывать и не просить. Спросил только, зачем он со своей командой косил людей из автоматов, идя по городу Будённовску.
Он наотрез отказался от этого, сказав, что это действовала какая-то параллельная группа, но только не он и не его люди.
Я не поверил ему, но возражать не стал.
Потом спросил его, зачем он воюет. И не боится ли умереть.
Насчёт смерти он ответил, что умереть не боится. Это меня особенно заинтересовало. Пытаясь докопаться до истины, я как только мог, зондировал его провокационными вопросами.
В конечном итоге, всё же уловил, что умирать он не хочет. Но уловил и другое, что страха уйти из жизни он также не испытывает. Такое же фанатичное настроение было у всех остальных террористов, кто присутствовал при нашем общении.
По поводу своих действий Басаев ответил, что совершает их, будучи не согласен с существующим режимом, а поэтому хотел бы отделить Чечню от России, чтобы защитить чеченский народ от «издевательств русских».
Тут я ему возразил, сказав, что знаю немало примеров обратного характера, и что отделение Чечни от России не произойдёт никогда.
Спросил Басаева и о том, зачем он так жестоко поступил с захваченными им пятью лётчиками, дав команду расстрелять их.
Он сказал, что сделал это по двум причинам – за бомбёжки Чечни и за то, что журналисты с пренебрежением отнеслись к его приглашению посетить больницу.
Пообещав прийти, они стали очень затягивать свой визит, несмотря на предупреждение, что в случае нарушения обещания, он расстреляет 5 человек.
Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, кто так безответственно дал приказ не пускать журналистов к Басаеву, тем самым, предоставив ему возможность исполнить свою страшную угрозу.
Конечно, журналисты после этого быстро появились, но это было уже слишком поздно.
Кровавая расправа Басаева над лётчиками безвозвратно свершилась.
И в этом была их косвенная, а может даже, и прямая вина. Появились они, как это всегда бывает в случае разных трагедий, с удвоенным журналистским любопытством, чтобы посмаковать новую сенсацию и растрезвонить о ней на весь мир.
Были ли только при этом у них в сердцах боль и сострадание? Об этом судить не берусь.
Затем, меняя тему, спросил, почему он не принял В.В.Жириновского.
На этот вопрос Басаев дал неожиданный ответ:
«Да его бы отсюда вынесли ногами вперёд».
Такое отношение к Владимиру Вольфовичу, которому я симпатизировал и которого хорошо знал, мне было очень неприятно. Я попытался переубедить Басаева и рассказал ему о Владимире Вольфовиче много такого, что должно было бы переубедить его. Но он больше ничего о В.Жириновском не сказал.
Больше всего Басаев говорил о том, что хотел бы организовать Всероссийский референдум и узнать, что скажет народ России о варианте отсоединения Чечни от России. Если народ будет против этого, то он сложит оружие. Надо сказать, что в кое-каких вопросах я с ним соглашался. А в некоторых делал только вид, что соглашаюсь. Видел, что этим всё больше и больше располагаю его к себе.
Тем временем часто приходилось прерывать беседу и звонить в штаб. В основном, я разговаривал со С.Степашиным, к которому проникся большой симпатией. С ним, очень интеллигентным и тонким человеком, было легко и приятно говорить.
То и дело в ординаторскую прорывались звонки жителей города. Правда, связь была неустойчивой, удавалось говорить всего несколько секунд. Было ясно, что мои разговоры кто-то преднамеренно прерывает.
И всё же через людей, которые звонили в больницу, мне удалось передать номер телефона больницы моей двоюродной сестре, тоже работавшей в Думе. Она сумела дозвониться ко мне, и я дал ей задание выйти на Америку, чтобы через моего знакомого, работающего в ООН, донести информацию о сложившейся ситуации до сведения мировой общественности. Это было страховкой от непредвиденных действий, которые могли начаться по приказу штаба. Разумеется, все эти разговоры спецслужбы фиксировали и передавали в вышестоящие инстанции. Но как раз на это я больше всего и рассчитывал.
Боевики, привыкнув ко мне, вели себя спокойно, с любопытством рассматривали меня, расспрашивали о моей жизни, о моём деле. Кое-кто, расслабившись, стал даже шутить. Но тут Басаев сразу же напомнил им, что они не на свадьбе и что шуткам сейчас не время.
Слушали они его беспрекословно.
Переломный момент
Вечерело, из-за отсутствия электрического освещения в ординаторской стало сумрачно. Мы уже достаточно наговорились с Басаевым, затронув разные житейские темы, и во многом нашли общие точки соприкосновения. Никакого напряжения в нашем общении не было, чувствовалась лёгкость и взаимное расположение.
«Со мной никто ещё так не разговаривал» - благодарно подвёл итог нашей беседе Басаев.
А спустя ещё какое - то время, он предложил мне отдать заложников. Именно этого исхода я ждал, чувствуя, что он всё больше созревает поступить именно так.
«Забирайте их», - сказал он мне, махнув рукой с каким-то уставшим и безразличным видом. «Отдаю всех до одного» .
Не буду скрывать, что даже при всех моих ожиданиях, заявление Басаева всё равно прозвучало для меня неожиданно.
«Отдаёшь?» - переспросил я его, ещё не совсем веря в такую удачную развязку сложной и, казалось бы, неразрешимой ситуации. И, не дожидаясь подтверждения сказанного им, поспешно добавил:
«Хорошо, беру. Только вот... условия...».
«Условия?» - он помедлил. Видно, его всё ещё мучили сомнения, но потом продолжил уверенно:
«Условий два – прекращение огня и стол переговоров»
«Ты же требовал десять?».
«Нет, два», - снова повторил он.
«Могу звонить в штаб?» , спросил я, не выдавая радости и едва справляясь со своим выражением лица.
«Звоните».
Я немедленно набрал С.В.Степашина и коротко сказал ему:
«Басаев даёт добро. Условий всего два – прекращение огня и стол переговоров».
Басаев стоял рядом, слушая наш разговор.
Я продолжал:
«Свяжитесь с Черномырдиным и передайте ему эту информацию».
Сергей Вадимович, по-видимому, тоже обрадовался и ответил по-военному: «Есть!». С этого мгновения и закрутилась программа освобождения захваченных людей.
Сергей Вадимович вышел на В.Черномырдина. Позже председатель Госдумы И.Рыбкин, на заседании Думы скажет депутатам, что во время разговора С.Степашина с В.Черномырдиным он был рядом и слышал их разговор. Президента Б.Ельцина в стране не было. Все вопросы решал В.Черномырдин. Не прошло и часа, как из города позвонили и сообщили, что премьер-министр В.Черномырдин выступил по телевидению и сказал, что предложенные Басаевым условия принимаются, и что все заложники будут освобождены.